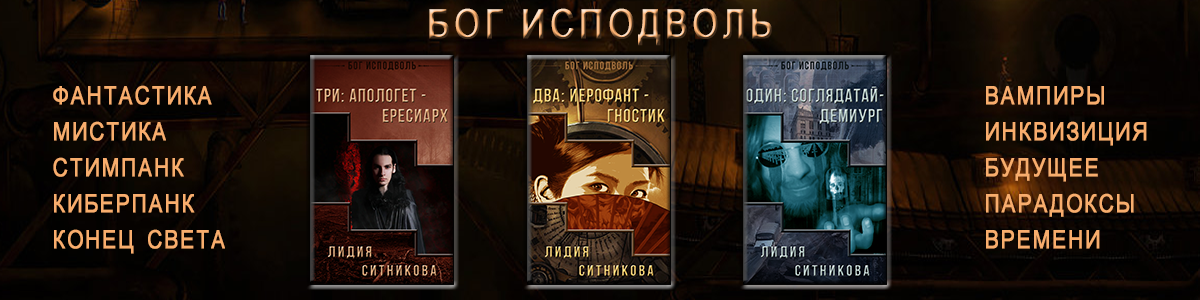Настроение с утра выдалось паршивое. Даже очень паршивое, надо признаться. Под стать погоде – дождю конца и края не видно. Хотя какая погода может быть в этом клятом городе в начале клятого ноября? Тоска, короче. Тоска такая, что хоть волком вой, хоть спирт глотай. А нельзя. Ни то, ни другое нельзя — заклюет. Жена моя заклюет. Надоела хуже уксуса, хуже электронных сигарет надоела. Сигареты, кстати, тоже она мне всучила. И как унюхает, что настоящие курил, — начинается… Хоть домой не являйся. Я уж и одеколон ядреный купил — собаки за версту носы воротят. А она чует. Нюх у нее какой особенный что ли?..
Одна радость мне – выкурить с утра парочку-другую любимых, с золотой полосочкой по фильтру, с крепким, хоть и мусорным, табачком… Авось к вечеру развеется.
И вот сижу я, как водится, утром, на полу, смолю свою радость. Лавок свободных нет – да никогда и не бывает. Спят же, подлые, — на любой поверхности спят. Вот на полу почему-то не хотят спать, хоть пол тут и почище лавок будет. А я сижу и их разглядываю. Не подумайте только, что мне народ этот интересен — что я, народа не видел, что ли, да плевал я на народ… Я не столько людей разглядываю, сколько их надписи.
У каждого надпись – на самом видном месте. На чемоданах пишут, на картонках, на лбах даже себе рисуют – криво, буквы вверх ногами. Неудобно небось без зеркала, а всё равно рисуют. Чтоб сразу в глаза бросалась, чтоб мимо не прошли – такие как я чтоб не прошли. А я сижу. Смолю. Разглядываю. И никуда проходить не собираюсь – пока что.
А эти сидят. Я их называю наездниками – про себя, конечно. Садятся они, едут не пойми куда, суетятся не пойми зачем. Будто где-то далеко люди живут иначе… Везде ж одно и то же, знай себе – пыхти потихоньку. А они спешат. Еще и с детьми, бывает, прутся – вот уж хуже некуда. Всю дорогу только знай слушай вопли да сюсюканье. Радио им не включай, громко им не говори… И курить нельзя, конечно.
Читаю надписи. Далековато, и это далековато… Нет, туда я определенно не поеду… Хм, а там я уже был позавчера, неохота снова…
Да что ж за день такой! И погода ни к черту, и на душе как дерьмом намазали, и ехать некуда… Погодите-ка – а это еще что?
Сидит. Как все сидит. Только надпись у нее какая-то странная. Не пойму – всерьез, что ли?..
Подхожу.
— Привет, — говорю, — тебе куда?
— А хоть куда, — отвечает. Рюкзак свой тощий ручонками обхватывает и отвечает. Спокойно так, аж непривычно. Так-то они нервные все, в глаза глядят, что твоя псина. Чуть в сторону отвернешься – подскакивают, умоляют, за куртку трясут. Противно. А эта спокойная.
Всерьез, значит, надпись у нее. Развеселило меня это. Не знаю, почему, но развеселило.
— Я на север, — говорю, — еду. В горы. Поедешь со мной?
— Поеду, — пищит тоненько.
— Ну, пошли, — я шагаю к своей таратайке. Оглядываюсь на выходе. Смотрю, семенит следом. И картонку с надписью за собой тащит.
Внутри таратайки тепло – дизель пашет, что твоя лошадь. Таратайка – это я так ласково ее зову, старушенцию свою, хамочку. Норовистая она, но верная – ни разу не подводила еще. Даст судьба, и не подведет, повозит еще, послужит. Зря я, что ли, с одной пневмоподвеской месяц колупался?
Сажусь и первым делом руль поглаживаю. Слышу, заурчала мягче, сыто так. Умница, хамочка, молодчинка моя, лошадка моя рабочая, верная. Вот сейчас мы с тобой покатаемся…
Дверца хлопает – ага, забралась. Клиренс у хамочки будь здоров, а порожки ей даром не сдались – снес я их давно, и двери с защитой поставил. Кто его знает, какая дорога пойдет…
Сидит, уминает под себя плащик, другой рукой рюкзак комкает. Пустой он у нее, что ли?
— Ну, — спрашиваю, — едем?
Кивает. Едем, мол. Трогаюсь, а сам хамочку слушаю – довольно ли урчит? Бывает, не нравится ей пассажир – капризничать начинает. Или направление не нравится. Я даже список составил тех мест, куда ездить не буду. Не хочет хамочка. И правильно – нечего, значит, мне в тех местах делать.
Минуем вокзал, Центральную улицу, горелый пост на выезде. Вот странно — вроде и большой город, а проедешь – не заметишь даже. Смотрю на дорогу, но краем глаза кошусь так незаметно на девчонку. И не мелкая она – годов на пять всего-то от меня моложе. Тощая только. А так – ничего, глядеть можно.
Согрелась, видимо, порозовела, рот приоткрыла. Значит, сейчас болтать будет. Не люблю я болтливых. Вот сколько езжу – не люблю. Всё рассказывают и рассказывают что-то. У меня этих историй уже целый воз скопился, куда их девать – убей, не пойму, и ведь одна другой скучнее. Так и думаешь – перестали, что ли, с людьми интересные вещи случаться? Хотя порассуждаю так, и вроде отлегает. Не один я, значит, такой пресный.
Едем. Молчит. Поля уже потянулись, подсолнуховые – то есть были когда-то, сейчас-то там одна трава, и та пожухла. Поля тянутся и тянутся, а она молчит. Ну и шут бы с ней.
Проскочили мы поля, в Болотную долину въехали. Асфальт пока ещё хороший, хамочка быстро идет, ровно. Ей-то что – она любую дорогу переварит, и на бездорожье не икнёт. Но по ровному как-то приятней.
И долину Болотную позади оставили, а девчонка всё молчит. В лобовое только смотрит, как застыла. Мне это уже поднадоело.
— Ты, — говорю, — бежишь, что ли, от кого-то?
Плечами пожимает.
— Можно и так сказать.
Вот те раз! То ли ответ – то ли нет!.. Писк один.
— Я, — говорю, — горы люблю. Лес там, сосны. Красиво. А ты что любишь?
— Я тоже люблю горы, — отвечает, — и лес люблю. Да и всю природу. Только где её сейчас найдёшь…
— Что значит – где найдёшь? – удивляюсь, — вон, за город вышел – на тебе природу! Поля, деревья, долина Болотная…
— В долине этой деревья бензином пропахли, — говорит, — а на полях слой пыли в палец толщиной.
— Ну, так что ж, — удивляюсь еще больше, — зато – трава! И деревья… Птицы, опять же, эти, как их…
— Вороны, — подсказывает, — падальщики.
— Ну да, вороны, — говорю, — ну и что – вороны? Тоже птица ведь. Летает, каркает… не птица, скажешь?
Молчит. Тихонько так сидит, как мышь серая.
А я завелся. Чувствую – понеслась, а остановить себя не могу.
— Вороны! – рявкаю, — да хоть бы и к воронам! Что, думаешь, я зазря вот так мотаюсь? Не-ет, милая, не просто всё, не просто… Вот хамочка, — говорю я и руль глажу – нежно так, как плоть женскую, — хамочка меня понимает, любит меня. И я её люблю. А жена меня к хамочке – представляешь? – ревнует. Перекашивает её всю, когда видит, что поеду. Опять, говорит, едешь, и денег тебе за это не платят, и дизель палишь зря – а что ей тот дизель? Платный он, что ли?.. И деньги ей на что? Купить-то все равно уже ничего не купишь. Одно название от этих денег осталось. Бумажки одни. А она все по-старому живет и никак успокоиться не может, бубнит и бубнит, а как бубнить надоест – скандал закатит… Ну, я обычно не жду скандала – к хамочке да вперед. Возить вот вас, беспокойных, да на поля глядеть. Все лучше, чем дом этот с истериками. И неделями бы катался, да не дает – к вечеру домой требует. Редко когда на ночь отпустит. А так, бывало, хорошо – катишь себе по шоссе, справа – темно, слева – темно, сзади – хоть глаз выколи, а впереди-то – море света! – тут у меня аж дух захватило, — море, понимаешь? И дорога! Прямая! Вперед! И ехать можно – сколько хочешь! И хамочка урчит, как ей не урчать, милой моей, ведь любит же дорогу, сердцем любит, как и я…
Сижу я так, соловьем перед девчонкой разливаюсь. А она молчит. Слушает, вижу, внимательно. Но молчит. И на меня не смотрит – вперилась в лобовое и всё.
— Ну что ж ты, — рыкаю, аж стыдно самому – ишь, разболтался! – сказать нечего?
— Есть, — спокойненько так отвечает, — я вам историю одну расскажу.
— Ну-ну, — буркаю, а сам рукоятку покачиваю – с третьей на четвертую.
— Жила-была девочка, — начинает она, — и был у нее Папа…
У Папы была Жена, а у девочки была Мама. Две разные женщины, и на двоих – один мужчина. Жена, конечно, была злыдней и ведьмой, а Мама – рабочей лошадкой, поднимающей дочь в одиночку. Злыдня держала Папу при себе, варила приворотные зелья и не отпускала. Редко-редко Папе удавалось вырваться, и тогда девочка с Мамой устраивали настоящий праздник для троих. Наивная девочка просила Папу убежать от ведьмы-Жены и остаться с Мамой. Долго просила — а Папа все не бросал и все никак не оставался. Но девочка все равно его любила. А потом Папа заболел. Он долго болел и, в конце концов, умер. Девочка была уже большой и поехала на похороны вместе с Мамой. И там впервые увидела дом Папы.
У него был чудесный сад – никогда раньше девочка не видела таких садов. В нем росли сотни цветов, и ни одной сорной травинки не пробивалось на ухоженных газонах. Но самым прекрасным в саду оказался пруд, и в этом пруду плавали кувшинки. Злыдня-Жена, немолодая и некрасивая, сквозь бегущие слезы шептала, как просила Папу выйти посмотреть на них. Как боялась за него, как рыдала в подушку, когда он уходил надолго. Как сидела у его постели, когда болезнь окончательно взяла верх. Она сделала пруд своими руками и посадила кувшинки для Папы. Но Папа уже был слишком слаб и не мог даже подняться. Он умер поздней ночью – а наутро кувшинка расцвела. Огромный белый цветок…
Писклявый голосок сорвался, зазвучал вновь с хрипотцой:
— Я смотрела на цветок и понимала, впервые в жизни понимала, почему папа никогда бы не оставил жену. Я не могу представить свою мать сажающей кувшинки… — закончила девочка, не замечая, что оговаривается. — И, когда он ушел, мне стало все равно, куда ехать. Хоть куда.
Она затихла. И я примолк. Не идут слова, не идут… И только хамочка гудит – ровно так, спокойненько. Рабочая лошадка…
Так и доехали до гор — молча. Туман над верхушками уже висит, сыростью дует. И не поймешь, где там тучи кончаются, и начинается туман. Противный он, нездоровый какой-то.
— Спасибо вам, — девчонка дверцу открывает, видно, с натугой. Прыгает, запахивается, глазищи свои серые на меня таращит.
— Боится она за вас, — я не сразу понимаю, о ком толкует девчонка, а она – дальше:
— Вам всегда есть куда ехать и куда вернуться, — говорит и рюкзачишку поправляет, — удачи.
И – вверх, по старому разъезженному серпантину. Только ноги тощие мелькают да ветер треплет плащ.
А я сижу. Смотрю. Туман ползет, спускается с горы, фигурку ее тощенькую поглощает. Была – и нету.
Разворачиваюсь. Хамочка фыркает, рвет с места под сотню. Я не осаживаю – пусть. Быстрей домчит меня до дома…
Ставлю хамочку во дворе, прощаюсь – рукой баранку глажу, оглядываю салон. Под сиденьем лежит картонка с надписью. Забыла девчонка… Поднимаю, захлопываю дверь.
В доме светло, и на крыльце уже вижу фигуру. Внутри вскипает злость – и тут же почему-то исчезает. Ждала, значит… Маялась, высматривала…
Разворачиваю картонку, пристраиваю на заднее стекло. Как знать – может, еще встретимся?
Все, хамочка. На сегодня мы с тобой откатались. Бывай.
Не оборачиваясь, двигаю к дому, к крыльцу, к стройной фигуре в халате. Иду, гляжу на нее – а вижу девчонку. Стоит, кутается. Худая, что твой глист, а в руке кувшинка. И опять на меня не смотрит, а всё куда-то вбок да вниз.
Подхожу. Обнимаю, впиваюсь губами в мягкие щеки. Чую – дрожит, тянется. Неловко как-то, будто с непривычки. И смеется ведь, всем телом чувствую – смеется! Беру ее лицо в ладони, поднимаю – она. Она, моя спутница, супруга моя верная. И в руке у нее платок белеется, а никакая не кувшинка.
Поднимаю ее, на руках несу в дом, а там вовсю пахнет свежим хлебом. Она хохочет, и видно – непривычно ей. Не такие встречи у нас бывали, не такие… И мне непривычно, но как же, черт подери, хорошо!
Сколько лет мы с нею уже вместе, и сколько еще предстоит… Надо будет – и кувшинки посадит, и последний глоток поднесет.
Слушаю ее смех, гляжу в лицо – старушенция моя, умница, молодчинка моя, лошадка рабочая, преданная, верная… И понимаю вдруг, что всю дорогу не курил.
ДРУГИЕ РАССКАЗЫ ВНЕ ЦИКЛОВ >>>
Благодарю за внимание! Возможно, вас заинтересует:
Книга в бумаге
с автографом и бонусом
- твёрдый шитый переплёт
- плотная белая бумага
- глянцевая цветная обложка
Букбокс «Терра»
большой букбокс-сюрприз
- минимум 5 предметов
- календари, стикеры, вкусняхи
- каждый букбокс индивидуален
Мерч и бонусы
персональные подарки
- в единственном экземпляре
- QR-коды — доступ к бонусным текстам
- персонализация под Вас

Дорогие читатели!
Мне очень важна ваша поддержка. Вы — те люди, без которых этой книги бы не было. Всё своё творчество я выкладываю бесплатно, но если вы считаете, что оно достойно денежного поощрения — это можно сделать здесь.
Вы также можете поддержать меня, подписавшись на мою группу Вконтакте.
Или разместить отзыв на книгу: